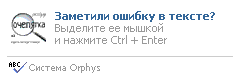
|
Написал статью: Opanasenko
Станислав Савицкий. Прекрасная Франция. Издательство «Бертельсманн» 2015
Книга искусствоведа и писателя Станислава Савицкого «Прекрасная Франция» формально является путеводителем по стране, но это не так. На деле это путеводитель по душе Франции — по ее атмосфере, тайным уголкам, воспоминаниям на каком углу и в какой мансарде какой великий француз выпивал свой великий кальвадос. Савицкий предлагает прогулки по культурному слою Франции, по ее исторической памяти: каждая улица, каждый городок помнят шаги, любови и вдохновения художников, поэтов, философов — об этом и книга. Примерно половина книги посвящена Парижу, еще половина — другим регионам страны, от Эльзаса до Прованса. С любезного разрешения автора и издательства мы публикуем фрагмент «Прекрасной Франции».
 В залах Лувра. 2010. Фото: Екатерина Алленова/Артгид В залах Лувра. 2010. Фото: Екатерина Алленова/Артгид
Париж
Без Лувра сложно понять Францию в ее имперских амбициях. Лувр —гигантская колониальная коллекция, распадающаяся на сотни собраний. В нынешнем своем виде он создан при Наполеоне III, в период Второй империи. В таких музеях можно прожить всю жизнь и так и не узнать даже половины того, что хранится в запасниках. Лувр бесполезно смотреть от начала до конца. Каким бы тонким ценителем искусства вы не были, столько информации не уместится ни в одной голове. Разумнее всего приходить сюда по делу: посмотреть одну картину Делакруа, а потом — в кафе. Или коллекцию древнегреческих статуэток Карла Х — и в бар.
Когда я жил на Сент-Оноре, рядом с площадью Жанны Д’Арк, я взял себе за правило каждый день ходить в залы французского искусства. Я приходил утром, когда в музее еще никого нет, или в обед, когда большинство туристов спешат подкрепиться, или вечером по четвергам, когда музей открыт допоздна. День ото дня, начав со средневековых икон и портретов, я методично, зал за залом, рассматривал живопись, читал аннотации к вывешенным на экспозиции работам. Я вел себя, как идеальный посетитель музея, и этим не мог не навести на себя подозрение. Смотрители скоро стали меня узнавать, бросали в мою сторону недобрые взгляды, чувствуя во мне потенциальный источник беспокойств. Я в самом деле злоупотреблял их терпением, битый час торча в зале, где висело несколько картин, застревая еще дольше в следующем, затем возвращаясь, чтобы перечитать аннотацию и еще раз рассмотреть одну из работ. Смотрители успевали смениться по полному кругу, — в Лувре они через полчаса или час переходят из зала в зал, чтобы не заснуть на месте от напряженного труда, — а я все еще топтался на том же самом месте, что пару часов тому назад. Через неделю моих походов в Лувр я заметил мужчину в черном костюме охранника, который, делая вид, будто медленно прогуливается, краем глаза поглядывал в мою сторону. Кажется, меня взяли на заметку и уже собирались оказать мне честь пригласить в компанию Аполлинера, Пикассо и прочих знаменитых похитителей шедевров. Но я должен был их разочаровать, за месяц добравшись, наконец, до залов барбизонцев, так и не вспоров брюхо отверткой Сарданапалу на холсте Делакруа и не плеснув серной кислотой на «Воспоминание о Мортефонтене».
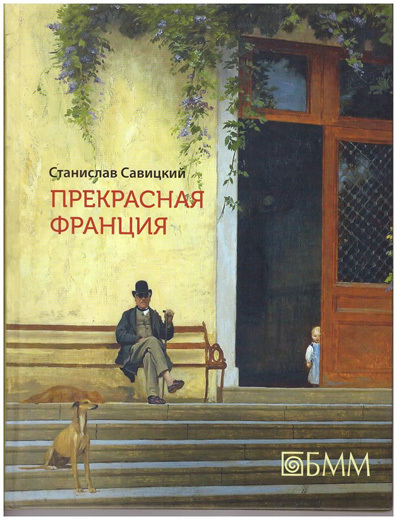 Обложка книги Станислава Савицкого «Прекрасная Франция». 2015
За месяц я прикипел душой к Лувру. До сих пор я плохо знаю музей целиком и не уверен, что когда-нибудь смогу заучить эту колоссальную экспозицию. Но с тех пор мне всегда очень уютно в узком зале с лионскими портретами. Я полюбил плавный поворот к залу Пуссена и полусумрак ротонды, где висят его «Времена года». Мне и сейчас хочется развернуться на сто восемьдесят градусов в зале натюрмортов восемнадцатого века, сливающихся в несколько разноцветных полос, — и погрузить взгляд в тушу ската, мерцающую посреди шарденовского холста. Взгляд застревает между тонких мазков, в переливах света, бликах, гуляющих по туше, эта небольшая картина втягивает в себя, и ты с удовольствием еще раз убеждаешься в том, что живопись бывает явственнее реальности. Тогда мне очень понравился Делакруа. Его большие холсты терялись в огромном зале, но, если удавалось заставить себя не замечать толпы, необъятного пространства, шпалерной развески, и – сосредоточиться на живописи, эффект был не менее живительный, чем перед картинами Шардена или перед энкаустикой Делакруа в Сен-Сюльпис.
Позднее я полюбил залы Северной школы, как здесь называют голландскую и фламандскую живопись. Крепостные стены и донжоны, раскопанные под дворцом, с их атмосферой компьютерной игры для готов, с их вечной толчеей на дощатых мостовых, мне нравятся, как школьнику. Ника Самофракийская, пусть она даже вся собрана из подручных материалов на радость туристам всех времен и народов, мне стала мила с первого раза, как я ее увидел. Нет в ней ни помпезности (это с крыльями-то на распорках?), ни идеала, ждущего поклонения себе (не так уж много от нее самой осталось). Она — идеальный шедевр, который любят за то, что все его знают. Она — само наше ожидание древней красоты. Недавно завершилась реставрация Ники, она не могла не остаться фетишем нашей любви к древности.
Лувр регулярно приглашает писателей, художников, режиссеров сделать выставку, используя произведения из собрания музея. Одним из лучших проектов на моей памяти был танец Мерса Каннингема по мотивам автопортрета Фрэнсиса Бэкона. Каннингем повторил в движении бэконовский пластический рисунок. Он танцевал на белом картонном квадрате, оставляя на нем росчерки графита, закрепленного на локтях, кистях, коленях. Видеозапись перформанса показывалась в зале, где был вывешен автопортрет, а на полу осталась белая площадка, испещренная черными росчерками, которые рифмовались с вывернутыми линиями Бэкона.
«Гера Кампаны» возвращается после реставрации в залы музея. Фото: © 2015 Musée du Louvre
Выставку о Лувре, любимом с детства, сделал несколько лет назад Патрис Шеро. Он с малых лет привык здесь бывать сначала вместе с родителями, которые были художниками-оформителями, потом сам, пока собирался заниматься искусством. Но стал режиссером. От искусства как такового он был далек, однако все спектакли предварительно подробно рисовал в эскизах. В узком коридорчике Шеро выставил наброски костюмов, декораций и сценических решений. Для двух больших соседних залов он отобрал картины, которые помнятся ему с детства, и работы современных фотографов. На холстах и на снимках мы видим тела в движении: эффектные па, аффективные жесты и гримасы, сцены страдания и отчаяния. Пластический язык его театральных постановок возникает из сближения сурбарановского сюрреалистического репортажа с выставленной напоказ личной жизнью героев Нэн Голдин, из соединения выточенных фоторельефов Мэпплторпа — с предчувствием маньеризма у Понтормо. Театр Шеро создан Лувром, увиденные в детстве картины преобразились в сценические образы.
Лувр — не храм искусств, а дом для тех, кто прикипел к нему душой. Пусть толпа, окружившая плотным полукругом зеленую тетку под толстым стеклом, бликующим, как линзы в очках моего одноклассника Шурика Патанова по кличке Тулип, у которого было зрение минус семь, пытается мыльницами и мобильниками сфоткать через головы впереди стоящих прекрасный человеческий образ. В google image он, наверно, самый популярный после символов жизнелюбия и плодородия. Пусть всем посетителям достанется свой трофей, каждый унесет частичку прекрасного, не звенящую в рамке металлоискателя, а эффективный менеджер пусть останется доволен высокими показателями посещаемости. Лувр жив теми, кто знает искусство неспешной прогулки по залам, где ты ведешь давний разговор, который всегда интересно продолжить с любого места.
Главный куратор Центра исследований и реставрации французских музеев Брюно Моттен рассматривает полноразмерное рентгеновское изображение картины Курбе. Фото: AFP Photo / Patrick Kovarik
На моей карте Парижа, помимо Лувра, есть еще несколько стратегически важных объектов. Бывший вокзал Орсэ, куда из Лувра в свое время перевели коллекцию импрессионистов и ранний авангард, не полюбить нельзя. Превращение вокзала в музей было и остроумным, и эффектным жестом, тем более что проблема с пустующим напротив Тюильри зданием давно ждала своего решения. Художники, обожавшие писать в клубах дыма прибывающий на платформу поезд, бегущий посреди поля паровозик и пассажиров второго класса с приветливыми, благополучными лицами (в зеленых плакали и пели), оказались в этом необычном экспозиционном пространстве очень кстати. Сам по себе вокзал небезынтересен с архитектурной точки зрения. Дом с фасадом дворца, с просторными галереями над перронами и массивным пухлым декором из стали и стекла. Строительство этого вокзала избавило человечество от одного из самых жутких кошмаров модернизма — «Врат ада» Родена. Они были заказаны для ведомственного здания, которое планировалось возвести на этом месте. Начало работ все откладывалось и в итоге — есть высший судия! — здесь построили вокзал. Роден же всю жизнь продолжал работать над незавершенным шедевром, ограничившись исключительными по пошлости мыслителем, тремя грешниками и еще несколькими, не такими известными скульптурами.
В Орсэ есть много радостей для любителя модернизма. Сам я, впрочем, к тому же импрессионизму отношусь без особого трепета. Но вот Курбе — мрачно, хлестко пишущего море, затаскивающего нас на нищие похороны в богом забытую овернскую деревню и заставляющего нас всматриваться во влагалище, гадая, какое выражение на лице подобает этой встрече с прекрасным, — Курбе я всегда любил. Он был чрезвычайно заносчив, он был не сдержан, ему следовало соревноваться не с модными интеллектуалами типа Прудона, но с мыслителями, которым было важнее осознать суть происходящего в тогдашней Франции. И все равно его бурная, непокорная живопись мне очень по нраву. Разоривший его штраф за снос Вандомской колонны и прочие героические истории о нем в юности меня вдохновляли. Теперь же в каждом новом музее модернистского искусства я всегда рад обнаружить работу Курбе, которую раньше не видел.
В Орсэ много вещей, которые я по-мальчишески любил, теперь же отношусь к модернистам-бунтарям в большинстве случаев иронически. Мане, Моне, Сезанн мне по-прежнему интересны, только не энергией противоречия установленному порядку, которой им было не занимать. Я стал их ценить как художников-исследователей, как интеллектуалов, экспериментировавших с живописью. К Утрилло, например, меня приобщила давняя приятельница еще на первом курсе, подарив его альбом, где была напечатана повесть Карко и воспоминания Валадон. На некоторое время окрестности кабачка «Проворный кролик» локализовали для меня весь художественный Париж. Юноше, выросшему в Ленинграде, это искусство было понятно и интересно. В Эрмитаже, на третьем этаже, импрессионисты и кубисты были представлены вполне сносно, особенно если сравнивать с венским Сецессионом, Тернером или мюнхенской сценой, которых у нас просто не было. Где-то на Пикассо и Марке авангард, правда, заканчивался, а с ним и современное искусство. Для наших художников оттепельного и застойного призыва парижский модернизм был точкой отсчета актуальной художественной жизни. Юношей я тоже пережил эту иллюзию, и сейчас ею даже дорожу. Ведь это наша местная традиция начинать заново один и тот же разговор, который проговаривали уже не раз в течение полувека, а то и больше. После войны «сэхэшатики» слушали рассказы Пунина о раннем авангарде. В шестидесятые-семидесятые все ждали, когда на третий этаж вывесят что-нибудь новенькое из импрессионистов или Пикассо. В перестройку над Ленинградом зависло благодатное видение Монмартра, пока внимание не переключилось на квартал Монпарнаса и героев двадцатых-тридцатых. Но это уже история о Центре Помпиду.
 Катрин Бай. Банкет. 2010. Перформанс в Центре Помпиду, Париж. Фото: © Centre Pompidou/ Hervé Véronèse
В Бобур, построенный после стольких споров, в Бобур, ради которого пришлось снести квартал в самом центре, в Бобур, который парижане обожают, я, как представитель иностранного легиона ценителей изящного, ходил одно время регулярно, как в Лувр. Сначала мне было тут интересно практически все: и два этажа искусства, которого ни в Москве ни в Питере ни на сопредельных территориях нет и никогда не будет, и роскошная библиотека по contemporary art, и выставки одна другой неожиданнее, и кафе, где можно было поболтать с приятелями, и кинопоказы, и открытые дискуссии, и большой книжный магазин, и симпатичные незнакомки, одиноко бродившие по залам музея. Подробно, зал за залом, я приходил смотреть Дюшана, дадаистов, сюрреалистов, леттристов — всех тех, о ком я много читал, но их работы знал больше по репродукциям. Даже наших Гончарову и Ларионова одно время было проще увидеть в Помпиду, чем в Русском музее или Третьяковке. Про вторую половину века и говорить нечего. К нам, конечно, привозили выставки Бойса, Суляжа, Уорхола или Юккера, и в коллекции Людвига есть всего понемножку, но пока я не изучил экспозицию Бобура, у меня были отрывочные представления об искусстве двадцатого века.
Некоторое разочарование после того, как увидишь столько безобразия, конечно наступает. «Фонтан» Дюшана наяву мало отличается от того, что на знаменитом снимке Штиглица, да и слишком большая порция всех этих «измов» вызывает пресыщение. Но посмотреть анемичное кино на пленке двадцатых годов или роторельефы, по меньшей мере, забавно. В раннем кинематографе было не так много экспериментов, все больше криминальные истории, любовные драмы, прибытие поезда в маленький южный городок или поливальщик, который сам себя облил водой. На этом фоне «Терпимость» Гриффита или первые опыты Эйзенштейна выбиваются из общего ряда. Анемичное кино Дюшана и вовсе не вписывается ни в какие рамки. Роторельефы поразили меня завораживающей непристойностью. Вертя головой, чтобы прочесть заворачивающиеся в спираль тексты, ты дочитывал фразу до конца, она оказывалась смешной и неприличной игрой слов. Оттого, что тебя так легко провели, на душе становилось чисто и светло. Сложнее было с «Парадом» Рене Клера. Полчаса бестолковых похорон были непонятны, даже со второго просмотра. На третий раз я не отважился, решив прочесть умные статьи, где все должны объяснить и разъяснить. Так оно и вышло, после чего я еще больше стал интересоваться Дюшаном, который так ловко умеет водить за нос и, что удивительно, всегда держит карты открытыми. Его розыгрыши и мистификации берут тебя в сообщники, и это даже трогательно.
Пока я осваивал экспозицию Помпиду, сильное впечатление произвели на меня натюрморты Моранди — тусклые, бледно-серые, однообразные и чудесным образом мерцающие, как увиденная во сне темнота. Рельефные холсты Бальтюса, при близком рассматривании рассыпчатые, как песок, щедро добавленный в грунтовку, тоже запомнились. О педофильских скабрезностях, к которым была склонность у этого художника, я даже и не вспомнил, удивляясь тому, как фотографически приближена в его картинах жизнь. На иных снимках этот эффект возникает из-за проступающего в отпечатке растра.
В тот приезд я насмотрелся современного искусства на долгое время вперед. Видео-арт путался у меня в голове с документациями акций Ники де Сен-Фалль, алхимическая живопись Зигмара Польке — с нарративными фигуративистами и холстами Ойвинда Фальстрома. В общем, вакцина была введена, и, похоже, с передозировкой. Я долго приходил в себя, прежде чем начал смотреть на все эти поп-, оп-, соц-арты как на забавные случаи из чужой жизни. И теперь в том же Fondation Cartier, где показывают самое что ни на есть современное искусство, меня иногда одолевает тоска от той простоты, с которой все может быть экспонировано как художественное явление. Это происходит настолько естественным образом, что не смутится никто, даже скотч-терьер, проходящий с хозяином мимо выставочного зала по бульвару.
Тем не менее, в Помпиду я по-прежнему с удовольствием наведываюсь всегда, когда бываю в Париже. Хоть одна хорошая выставка там всегда есть. Раз в несколько лет кураторы меняют постоянную экспозицию, смещают акценты в истории искусства, продвигают забытых художников или показывают работы, хранившиеся в запасниках, придумывают новую развеску, иногда перепланируя залы. Тут же на эти новшества реагируют в нью-йоркском МОМА, в венском MUMOK или в Тейте. За этими изменениями в художественной атмосфере наблюдать чрезвычайно увлекательно.
Подбор иллюстраций осуществлен «Артгидом».
ВВЕРХ
|