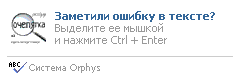
|
Просмотров: 1839
Ватиканские фрески Рафаэля
Ватиканские фрески Рафаэля
Ватиканские фрески Рафаэля
Рафаэль вырос в Умбрии. Он выделялся в школе среди других учеников Перуджино и с таким совершенством усвоил проникнутую чувством манеру учителя, что, по словам Вазари, картины учителя и ученика нельзя было отличить. Быть может, никогда еще гениальный ученик не впитывал с такою полнотою искусства учителя, как Рафаэль. Ангел, написанный Леонардо в картине “Крещение” Верроккио, сразу поражает чем-то особенным, работы Микеланджело-мальчика нельзя сравнить ни с какими другими, Рафаэля же в его начинаниях трудно отделить от Перуджино. Но вот он прибывает во Флоренцию. То был момент, когда Микеланджело закончил подвиги своей юности, изваял Давида и работал над “Купающимися солдатами”, а Леонардо набросал картину боя и создавал невиданное еще последнее свое чудо — “Мону Лизу”; Леонардо — в расцвете сил, во всем сиянии славы,
Микеланджело — на пороге зрелости, человек будущего. Рафаэлю же едва минуло двадцать лет. Чего мог он ожидать для себя рядом с этими великанами?
Перуджино как живописца ценили на берегах Арно, и потому его ученику можно было предсказать, что картины его будут нравиться, что он сделается вторым, быть может, лучшим Перуджино. Впечатления самостоятельности его картины не производили.
Без малейшего следа флорентийского реализма, односторонний в своих чувствованиях, плохо владеющий красотой линий, он и не помышлял вступить в состязание с великими мастерами. Но у него был ему одному присущий талант воспринимания, внутреннего претворения. Он превосходно проявил его впервые, когда отрешился от наследия Умбрийской школы и весь отдался изучению задач флорентинского искусства. На это были бы способны немногие; а окинув взглядом всю недолгую жизнь Рафаэля, нужно признать, что он один сумел пройти подобную эволюцию в такое короткое время. Умбрийский мечтатель становится живописцем больших драматических сцен, юноша, лишь робко соприкасавшийся с землею, превращается в изобразителя людей, способного мастерской рукой схватывать явления; рисуночный стиль Перуджино преображается у пего в живописный, и односторонний вкус к тихой красоте уступает потребности изображения сильных массовых движений. Таков зрелый мастер римской эпохи.
Рафаэль не обладает ни тонкими нервами, ни аристократичностью Леонардо, ни еще менее того, силой Микеланджело. О нем можно было бы сказать, что он обладает “золотой серединой”, чем-то доступным для общего понимания, если бы это выражение не могло быть истолковано в ущерб ему. Это ровное и счастливое настроение так редко в наши дни, что многим легче понять Микеланджело, чем открытую, приветливую, безмятежную душу Рафаэля. А между тем чарующая приветливость его характера особенно пленяла знавших его современников; она и теперь убедительно светит нам из его произведений.
К счастью для Рафаэля, первое время он не получал в Риме заказов на темы драматического характера. Он должен был изображать спокойные собрания идеально настроенных людей, картины безмятежного общения, и его изобретательность должна была быть направлена на создание разнообразия простых движений и гармонии обшей композиции. Он имел к этому прирожденный талант. В картинах мадонн Рафаэль вырабатывал в себе способность гармонично вести линии и уравновешивать массы. Эти приобретения он смог теперь применить в большом масштабе. В “Диспута” и в “Афинской школе”, развивается его искусство заполнять пространство и соединять группы, которое и ляжет в основание его позднейших драматических картин.
Современная публика с трудом оценивает художественное содержание этих произведений. Ценность изображений она видит в другом: в выражении лиц, осмысленном соотношении отдельных фигур между собою. Прежде всего хотят знать, что означают те или иные фигуры, и не могут успокоиться до тех пор, пока не узнают их имен. Благодарно прислушивается путешественник к поучениям проводника, точно знающего имя каждого лица, и он уверен, что после подобных объяснений картины становятся ему понятнее. Для большинства этим интерес вообще и исчерпывается; более добросовестные стараются понять выражение лиц, проникнуться им. Немногим удается наряду с лицами схватить общее движение фигуры, почувствовать мотивы красивого наклона, манеры сидеть или стоять, и лишь совсем немногие чуют, что действительная ценность этих картин заключается не в частностях, а в общем соподчинении, в ритмическом оживлении пространства. Это декоративные работы большого стиля, понимая слово “декоративный” не в общепринятом смысле. Я подразумеваю здесь стенопись, где главное внимание художник сосредоточивает не на отдельной голове, не на психологической связи, а на расположении фигур на плоскости, на отношении их пространственной близости. Рафаэль, как никто, обладал талантом создавать приятное для человеческого глаза.
Для понимания художественного произведения исторической эрудиции не требуется. Обыкновенно трактуются лишь общеизвестные положения, и искать в “Афинской школе” глубокомысленных философско-исторических отношений или в “Диспута” итогов церковной истории — неправильно. В тех случаях, когда Рафаэль хотел быть определенно понятым, он делал соответствующую приписку. Но это бывало не часто. Даже главные фигуры, центры композиции, остаются без объяснения. Современники художника их не требовали, ибо важен был одухотворенный мотив движения фигуры, а не имя. О значении фигур не спрашивали, а ценили в них их художественное содержание.
Для того чтобы разделить эту точку зрения, нужна редкая в наше время, особая чувственная восприимчивость глаза; германцу же вообще трудно вполне постичь то значение, какое придается романским народом чисто телесной манере держаться, двигаться. Северный путешественник должен терпеливо перенести разочарование перед этими произведениями, в которых он ожидал найти откровение величайших духовных способностей. Рембрандт, без сомнения, трактовал бы философию по-иному.
Желающий ближе познакомиться с картинами должен проанализировать каждую фигуру и, заучив их на память, обратить внимание на их взаимную связь, на то, как каждая из них предполагает и обусловливает другую.
У алтаря с дароносицей расположились четыре учителя церкви, установивших догмат: Иероним, Григорий, Амвросий и Августин. Вокруг них верующие. Созерцательно-спокойно стоят ученые богословы, благоговейно теснятся пылкие юноши, в одном месте читают, в другом указывают; в этом собрании мы видим фигуры знаменитых людей рядом с неизвестными. Почетное место отведено папе Сиксту IV, дяде занимавшего в то время престол.
Такова земная сцена. Над ней парят лица св. Троицы, по сторонам которых в плоской арке полукругом расположились святые. Наверху, в том же направлении, ангелы. Над всей сценой господствует Христос, указывающий на свою рану, рядом с ним Мария и Иоанн. Над ним благословляющий бог-отец, внизу голубь. Голова голубя приходится как раз на половину высоты картины.
Вазари называет картину спором о святом таинстве; это название сохранилось до настоящего времени, но оно неверно. В этом собрании не спорят, мало даже разговаривают. Здесь изображено непреложнейшее, главнейшее таинство церкви, подтверждаемое присутствием самих небесных сил.
Посмотрим, как разрешили бы эту задачу мастера предшествующей школы. От Рафаэля не требовалось, в сущности, ничего нового сравнительно с содержанием многих алтарных образов: он должен был изобразить известное число благочестивых мужей, находящихся в мирном общении, а над ними, как месяц над лесом, спокойные небесные силы. Рафаэль сразу понял, что одними мотивами стоящих и сидящих фигур ему задачи не разрешить. Тихое общение надо было заменить собранием, оживленным движением, деятельностью. Прежде всего он разнообразит четыре фигуры главной группы (учителей церкви) и создает четыре различных момента: один читает, другой вглядывается в небесные видения, подняв голову, третий погружен в размышления, четвертый диктует. Рафаэль придумывает красивую группу теснящихся юношей и благодаря ей создает противовес спокойно стоящим отцам церкви. Выражение аффекта появляется еще раз в смягченном виде в патетической фигуре, стоящей спиною к зрителям у ступеней алтаря. Контрастом к ней на другой стороне служит фигура папы Сикста; подняв голову, он смотрит перед собою спокойно и уверенно, как истый глава церкви. Далее за ним совершенно светский мотив: молодой мальчик опирается на баллюстраду, и один из присутствующих показывает ему папу, а в противоположном углу картины обратный мотив: юноша указывает на старика. Старик стоит у баллюстрады, склонившись над книгой, в которую заглядывают и другие, он дает им, по-видимому, объяснения, между тем как юноша зовет его в середину, к алтарю, куда устремляются все. Можно сказать, что Рафаэль удовлетворил здесь личному желанию изобразить сектанта, не имея, конечно, в виду определенного лица, так как трудно предположить, чтобы этот мотив заключался в программе, Рафаэль должен был изобразить отцов церкви, папу Сикста и еще несколько представлявших интерес лиц, что он и исполнил; в остальном же он был совершенно свободен и для развития нужных ему мотивов мог пользоваться безымянными фигурами. Здесь мы подошли к основному: значение картины заключается не в частностях, но в общем построении, и ценность ее постигается лишь тогда, когда мы поймем, до какой степени каждая частность в ней служит общему и придумана художником ради общего впечатления.
Психологические моменты не представляют здесь главного интереса. Гирландайо написал бы более характерные головы, и Боттичелли сильнее захватил бы нас выражением религиозного экстаза. Ни одна фигура “Диспута” не сравнится с “Августином” Боттичелли в церкви Оньи Санти (Флоренция). Ценность рафаэлевского творчества заключается в другом: с несравненным искусством создал он композицию огромных размеров, обогатил ее глубиной содержания и разнообразием мотивов движения, ясно развив и ритмически объединив ее.
Первый вопрос композиции относился к учителям церкви. Они являлись главной группой, и потому их следовало выдвинуть. При значительной величине этих фигур их нельзя было отодвинуть в глубину, ибо в таком случае картина развилась бы в виде полосы: для того чтобы ее углубить, Рафаэль после некоторого колебания все-таки решил отодвинуть отцов церкви, построив для них ряд ступеней. Таким путем превосходно разрешилась задача композиции. Мотив ступеней оказался чрезвычайно удачным, ибо все фигуры располагались равномерно в направлении к середине. Композиция выгодно заканчивалась добавлением оживленно жестикулирующих людей по ту сторону алтаря, благодаря чему сидящие сзади Иероним и Августин выступили яснее; эта мысль осенила Рафаэля в последнюю минуту.
Течение определенно идет слева к середине. Указывающий юноша, молящиеся и патетическая фигура, обращенная к нам спиной, создают совокупность равномерного приятного для глаза движения. Рафаэль и позже считался с таким направлением глаза. Полуоборот последней центральной фигуры, диктующего Августина, понятен и целесообразен: он служит переходной ступенью к спокойствию правой стороны. Подобные формальные соображения были совершенно незнакомы художникам XV века.
Других отцов церкви Рафаэль расположил совершенно просто. Здесь один наклоненный профиль, один приподнятый и несколько иначе выраженный третий. Позы их также чрезвычайно просты. В этом сказывается расчет художника, ибо для сохранения впечатления величины отдаленных фигур эти группы иначе трактовать нельзя. Картины XV века, как “Триумф св. Фомы” Филиппино, слабы в данном отношении.
Чем ближе к переднему плану, тем движения богаче, наиболее разнообразны в наклоненных угловых и соседних с ними фигурах. Эти угловые группы расположены совсем симметрично и одинаково связаны с серединными фигурами при помощи указывающих. Симметрия царит во всей картине, но в отдельных фигурах она везде более или менее замаскирована. Наибольшее отступление от нее заметно посередине. Но и здесь нет большого разнообразия. Рафаэль еще нерешителен, он все связывает и успокаивает, избегая сильного движения, разорванности. С тонкостью чувства, почти с благоговением, проводит он линии, как бы оберегая их от причинения взаимной боли, и, несмотря на их обилие, сохраняет впечатление спокойствия. В том же духе объединяет художник линией заднего плана (ландшафтом) обе половины собрания и ряд фигур святых наверху.
Искусство спокойного соподчинения линий возможно лишь при чрезвычайной ясности художественного созерцания, мы ее чувствуем в каждом образе Рафаэля. Там, где старшие мастера теснят и нагромождают головы, Рафаэль, воспитанный в духе перуджиновской простоты, разделяет фигуры так, что мы каждую из них видим во всей полноте ее явления. И здесь также принимаются в соображение новые художественные расчеты зрительных восприятии. Трактовка толпы у Боттичелли или Филиппино требует напряженного рассматривания их вблизи, иначе в обшей тесноте выделить отдельных моментов нельзя. Искусство XVI века направляет взгляд на общее и принципиально требует упрощения.
Подобного рода качества, а не рисунок частностей определяют ценность картины. Нельзя отрицать того, что данная роспись содержит значительное количество существенно новых мотивов движения, но тем не менее рука художника здесь кое-где не свободна и не уверена; Сикст IV неясен: непонятно, идет ли он или стоит, и лишь постепенно замечаешь, что он опирается книгой о колено. Совсем неудачен указывающий юноша на противоположной стороне; его заимствовал Рафаэль с рисунка Леонардо, так называемой Беатриче. Бессодержательность лиц почти неприятна, когда это не портреты. Что это было бы за собрание верующих, если бы Леонардо наполнил его своими типами!
Но как было уже сказано, большими качествами рафаэлевского “Диспута” и истинными условиями производимого им впечатления надо считать общие моменты. Разделение всей стенной плоскости, расположение нижних фигур, изгиб верхней дуги святых, противоположение движения и торжественности царящих наверху, связь богатства движения со спокойствием заставляют ценить в “Диспута”, как это уже неоднократно и делалось, совершенный образец религиозно-монументального стиля. Совершенно особый характер придает этому произведению в высшей степени обаятельное слияние робости юношески-нежных чувствований с таящейся силой.
Против росписи теологического содержания мы находим светское исследование из области философии. Эта картина называется “Афинская школа” но это обозначение так же произвольно, как и в “Диспута”. Скорее здесь даже можно было бы говорить о споре (диспуте), ибо ее центральным мотивом являются два спорящих представителя философии — Платон и Аристотель. Вокруг них ряды слушателей. Вблизи Сократ со своим кружком. Последний, по своему обыкновению, предлагает вопросы и перечисляет по пальцам свои положения. На лестнице лежит Диоген в небрежной одежде. Пишущий пожилой человек, перед которым держат доску с гармоничными аккордами, может быть Пифагором. Если назвать еще астрономов Птолемея и Зороастра и геометра Евклида, то мы исчерпаем исторический материал картины.
Трудность композиции здесь возросла, ибо круг небесных сил отпадает. У Рафаэля не было иного выхода, как призвать на помощь архитектуру: он построил обширный портик, а перед ним во всю ширину картины четыре высоких ступени. Таким путем он приобрел двойную сцену: пространство на лестнице и верхнюю площадку.
В противоположность “Диспута”, где все части тяготеют к центру, композиция “Афинской школы” распадается на группы и даже на отдельные фигуры, что служит естественным выражением сложности научного исследования. Настоящего исторического содержания здесь так же мало, как и там. Мы как будто видим сознательное разделение дисциплин: физические сгруппированы внизу, спекулятивным мыслителям отведена верхняя часть портика, но такая интерпретация, быть может, произвольна.
Мотивы движений тела с их внутренним содержанием здесь гораздо богаче, чем в “Диспута”. Самая тема требовала большего разнообразия; заметно также, что и Рафаэль пошел дальше и внутренне стал богаче. Положения характеризуются определеннее, жесты выразительнее. Фигуры ярче остаются в памяти.
Прежде всего поражает группа Платона и Аристотеля. Тема была старая. Для сравнения достаточно взять рельеф философов Луки делла Роббиа на флорентийской кампаниле: два итальянца с живостью южан набрасываются друг на друга, причем один упорно настаивает на тексте своей книги, другой всеми десятью пальцами доказывает ему, что это вздор. Другие изображения споров можно видеть на бронзовой двери Донателло в церкви св. Лаврентия. Все эти мотивы Рафаэль отвергнул, ибо стиль XVI века требовал сдержанного жеста. Со спокойным благородством стоят друг около друга два главных .представителя философии: один протягивает руку к земле — это “созидающий” Аристотель; другой, Платон, подняв палец, указывает наверх. Откуда получил Рафаэль возможность так различно характеризовать обоих философов, выявить их образы так правдоподобно, мы не знаем.
Сильное впечатление производят также фигуры, находящиеся направо, у края. Простой силуэт одиноко стоящего, закутанного в плащ человека с белой бородой — величавый, спокойный образ. Рядом с ним другой, облокотившийся на карниз и смотрящий на пишущего мальчика; этот последний, видный совершенно фасом, сидит, согнувшись и закинув ногу на ногу. Для того чтобы судить о развитии художника, надо останавливаться на подобного рода фигурах.
Абсолютно нов мотив лежащего Диогена. Это церковный нищий, с удобством расположившийся на ступенях лестницы.
Еще интереснее группа Пифагора. Один, изображенный в профиль, пишет, низко сидя, поставив одну ногу на скамеечку, а сзади, склонясь над ним, теснятся другие фигуры, образуя венок изгибов. Дальше другой пишущий также сидит, но повернут совершенно лицом, его расположение членов сложнее; между этими двумя стоит третий, держащий на колене раскрытую книгу, как бы цитирующий из нее. Не надо •ломать головы над значением этой фигуры. Не вызванная необходимостью духовной связи, она важна лишь своим телесным мотивом. Высоко стоящая нога, правая рука, протянутая влево, поворот верхней части туловища и контрастирующий с ней наклон головы придают фигуре значительное пластическое содержание. И если северянину покажется, что богатство мотивов достигнуто здесь несколько искусственным путем, то пусть он не будет поспешен в своем суждении: итальянец обладает значительно большей подвижностью, чем мы, и границы естественного совсем для него иные. Рафаэль явно идет здесь по стопам Микеланджело, и, подчиняясь этой более сильной воле, он действительно как бы утрачивает на время собственную индивидуальность.
Рассматривание картины не должно ограничиваться отдельными фигурами. Те или иные движения у Рафаэля менее ценны, чем его искусство создавать групповые построения. Все раннее поколение мастеров не создало ничего, что могло бы сравниться с многочисленной системой его группировок. В группе геометра Рафаэль разрешает проблему, за которую брались в искусстве немногие: пять лиц обращены к одному центру! Группа в высшей степени ясна, с редкой чистотой линий и с богатством поворотов. Такова же и более широко задуманная группа ни противоположной стороне: как взаимно дополняют одно другое многообразные движения; с какой необходимостью приводится здесь в связь множество фигур, объединенных в многоголосной гармонии; как все здесь кажется само собой понятным, высокохудожественным .
Рассмотрев построение всей группы, становится ясным и назначение юноши на ее заднем плане; высказывалось предположение, что это княжеский портрет; я же думаю, что его формальная функция заключается не в чем ином, как в образовании необходимой вертикали над узлом дуг.
Как и в “Диспута”, все богатство движений сосредоточено здесь на первом плане. Сзади на площадке мы видим лес вертикалей; спереди, где фигуры велики, — дугообразные линии и сложные соединения.
Вокруг средних фигур все симметрично, потом симметрия нарушается, и верхняя масса свободно устремляется с одной стороны вниз по лестнице; таким путем нарушается равновесие, снова восстановляемое асимметрией передних групп.
Замечательно, что Платон и Аристотель производят впечатление главных фигур, несмотря на то что они стоят далеко позади и что их окружает масса людей; это вдвойне непонятно, если принять во внимание масштаб, который по отвлеченному расчету слишком быстро уменьшается по направлению к заднему плану: Диоген на лестнице получает вдруг совсем другой размер, чем соседние с ним фигуры переднего плана. Это чудо объясняется способом пользоваться архитектурой: спорящие философы стоят как раз в просвете последней арки. Без этой массы света, мощно отражающейся в концентрических линиях переднего свода, философы затерялись бы. Я напомню здесь о применении подобного же мотива в “Тайной вечере” Леонардо. Если бы уничтожить архитектуру, вся композиция была бы разрушена.
Отношения фигур к пространству выражены здесь вообще совершенно по-новому. Высоко над головами людей поднимаются могучие своды, и спокойная глубокая атмосфера этих портиков охватывает рассматривающего картину. В таком же духе был задуман новый храм св. Петра Браманте, и, по утверждению Вазари, Браманте же был создателем архитектуры фрески.
Литература
- Алпатов М. В. Художественные проблемы Итальянского Возрождения. М., 1971.
- Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.
3. Борзова Е. Л. История мировой культуры. Спб., 2001.
- Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII-XVI вв. Курс лекций по истории изобразительного искусства. М., 1977. Т. 2.
- Гнедич П. П. Всемирная история искусств. М., 1996.
- Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура. М., 2001.
7.Мировая художественная культура. Под ред. Б. А. Эренгросса. М., 2001.
- Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994.
- Ротенберг Е.И. Искусство Италии. Средняя Италия в период высокого Возрождения. М., 1974.
- Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. Л., 1976.

Написал полезное: Opanasenko
ВВЕРХ
|